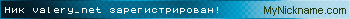|
По улице жмуром несут Абрама,
В тоске идет за ящиком семья,
Вдова кричит сильней, чем пилорама,
И нет при нем ни денег, ни «рыжья».
Тоскливо покидая синагогу,
Завернутый в большую простыню,
Абрам лежит в сатин на босу ногу,
Руками налегая на мотню.
Его котлы уже примерил шурин
И стрелки переводит втихаря,
А на людях божится, что, в натуре,
Не видел красивей богатыря.
Уже с утра в духах утюжат лепень,
Который был покойному пошит –
Евоный брат в Москве имеет степень,
Но не имеет надлежащий вид.
Пока процессия шагает,
На хате делится шмотье,
И душу лабухи вынают,
И пьет халяву шнаранье.
На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала –
Покойный подал голос из руин.
Состроилась, как есть, немая сцена,
Со страху Хаим челюсть проглотил,
Сподобился лицом в олигофрена
И мочевой пузырь ослобонил.
В момент исчезло множество скорбящих,
Вдове вдруг стало сразу не смешно.
Она кричала: «Господа, забейте ящик,
За все уже уплачено давно!»
И сразу на совковые лопаты
Возник всеобщий спрос и дефицит –
Кидали землю, будто три зарплаты
За этот труд на каждого висит.
Идут шикарные поминки.
Родные мечут колбасу.
Покойный ежится в простынке
Перед дверями в Страшный Суд.
|